Лето. Для многих жителей этой страны лето несет в себе помимо жары и повышенного потребления пива также и “отдых” на даче, или еще в какой нибудь сельской местности. Романтика в этом действе конечно имеется, и помимо созерцания природы, отдыха и труда на свежем воздухе, можно наткнуться на реликтовый советский журнал эпохи позднего застоя.
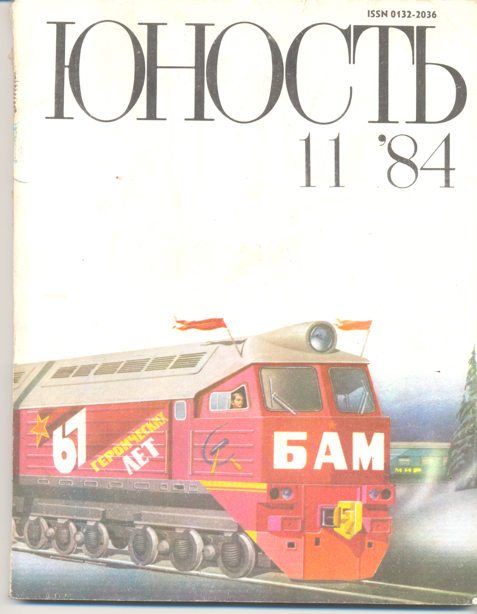
Если при этом так получилось, что Вы оторваны от быстрого интернета, телевидения и радио, то Вы имеете возможность окунуться в ту еще жизнь.
Ниже я выкладываю кусочек повести из такого журнала: “Укрощение мерзлоты”. Речь идет о двух журналистах, которые поехали на дальний север за материалами для статей.
Укрощение мерзлоты
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО
От аэропорта до Норильска надо было добираться на поезде, машины из-за заносов не ходили. Кочетков и Лихарев сидели в холодном вагоне, где было еще человек пять.
Поезд медленно двигался по сумрачной равнине. В этих широтах была полярная ночь. Михаил, продышав в замерзшем окне дырочку, пытался что-нибудь разглядеть, но проталинку почти мгновенно затягивало прозрачным ледком, который, преломляя и без того причудливую картину ночной тундры, превращал ее в неживой космический пейзаж.
— Глаз отморозишь, – шутливо предупредил Лихарев.
— Почему так медленно едем? — поинтересовался у него Михаил.
— Двадцать километров в час, больше нельзя.
Верхний слой почвы можно разрушить, и тогда поплывет вся дорога.
Лихарев пять лет назад был в Норильске на студенческой практике. Правда, приезжал он летом, но лето здесь относительное. Неделю стояла то ли поздняя весна, то ли ранняя осень, а потом повалил снег и ударили морозы.
— Чего б она зимой поплыла? — не поверил Михаил.
— Мерзлота — вещь капризная.
Алексей сам не понимал, как можно разрушить эту застывшую в камень землю, но из той практики он вынес твердое убеждение, что главная особенность здешнего строительства — это укрощение мерзлоты, которая только называется вечной, а чуть тронь ее, и утонут все труды человеческие в великом болоте — тундре.
Правда, на зиму грех жаловаться, если бы не конец года, то командировки вообще не было. Обычная для журнала история; весь год жадничали, а составили отчет и выяснилось: наэкономили столько, что в следующем году командировочный фонд надо на треть урезать. Этого допустить было нельзя, и ответственный секретарь бросил клич: «Все — в командировки!»
Из «всех» свободны были только Лихарев и Кочетков.
— Тему придумайте сами. Так сказать, свободный поиск.
…Поезд остановился в центре города, здание вокзала было чуть в сторонке от главной площади. Красный столбик на большом градуснике сжался до отметки минус тридцать пять.
— Не жарко,— удовлетворенно заметил Михаил. Ему хотелось, чтобы на Севере все было по-северному.
— Но и не холодно,— возразил Лихарев. Как старожил этих мест, он должен был предупредить Кочеткова, что погода их балует.
В окнах окружающих площадь домов горел свет. Три часа дня, а на улице темень, и фары машин режут эту густую черноту, замешенную на клубах пара. От площади одаль уходила главная улица. Она тоже была окутана желтым в свете фонарей паром. В нем, как жуки, рылись автобусы и «легковушки», помаргивая ослепительными глазами.
Кочетков увидел остановку такси и предложил:
— Давай на моторе, здесь, наверное, все близко. Лихарев хохотнул:
— Оборотись, сынку.
Михаил повернул голову. Над парадным входом добротного здания пятидесятых годов неоном светилось «Норильск». Это была гостиница, где они еще из Москвы заказали номер. В желтом свете фонарей дом, казалось, излучает тепло.
В просторном, отделанном мрамором вестибюле было бы уютно, если бы его не заполняли томящиеся а ожидании люди. Они, как по команде, повернули головы в сторону вошедших, повернули не из любопытства, а машинально, как это делают утомленные бездельем люди.
— Мэст нет,— почему-то с грузинским акцентом произнес Лихарев и, на ходу доставая удостоверение, направился к стойке администратора.
Женщина предпенсионного возраста, больше похожая на домохозяйку, чем на вершителя судеб отчаявшихся командироаочных, покрутила красную книжечку над своими бумагами и вернула се Лихареву с искренним сожалением.
— На вас брони нет, сынки.
Лихарев только утомленно вздохнул. Сколько ездишь в эти командировки, заказываешь номер заранее и все равно первый день тратишь на вышибание гостиницы.
— На нас должна быть бронь горкома,— вмешался Кочетков,- предположив, что эта важная бронь должна лежать отдельно. Хозяйка недоверчиво посмотрела на их молодые лица, но на всякий случай тряхнула какой-то бумажкой.
— Вот она, вся бронь. Вашей нету.
— Разрешите, мамаша, телефончик? — попросил Лихарев.— Надо это недоразумение устранить. У вас телефона горкома нет случайно?
— Нет, сынок, я тут временно. Катя у нас заболела, а я вообще-то по этажу дежурю.
— Сейчас по «09» узнаем. Плохо, что сегодня воскресенье, ну ничего, дежурный должен быть на месте.
Минут через пять Лихарев уже объяснил ситуацию дежурившему по горкому и передал трубку хозяйке, но та, вскрикнув: «Погоди маленько, родной»,— быстро выбралась из-за стойки и исчезла в прилегавшем к холлу коридорчике. Через несколько секунд она появилась, ведя за собой строгую женщину в темном костюме с высокой прической на голове. Та взяла трубку и с достоинством сказала: «Слушаю». Некоторое время она молчала, затем начала кивать головой и разевать рот, беззвучно произнося слова, потом, видимо, выбрав удобный момент, зачастила: «Конечно, конечно, мы все устроим. Поможем, обязательно поможем». На этом телефонный разговор и закончился.
Женщина взяла списки проживающих, с минуту поизучала их и распорядилась:
— В 212-й и 307-й подставь по раскладушке. Сегодня переночуют, а завтра за выездом что-нибудь получше подберем.
Лихарев от изумления даже начал заикаться.
— П-п-погодите. Мы н-не можем с посторонними. Нам надо отдельный номер. У нас работа.
— Где же я вам отдельный возьму? — рассердилась женщина.
— Поймите, я не могу рисковать. В этой сумке аппаратуры на пятнадцать тысяч. Если украдут, вы ыэ не вернете мне деньги?
— Не верну! — Женщина задумалась.— Что же мне с вами делать. В «люксе» жить будете?
— Можно…— неуверенно протянул Лихарев, раздумывая, чем это может грозить.
— Только при первом требовании вы должны его освободить. Он у нас резервный.
— Хорошо,— Лихарев проникновенно посмотрел в глаза женщине,— только платить мы будем, как за обычный номер на двоих.
Женщина от неожиданности рассмеялась и, подумав, согласилась.
«Люкс» их ошеломил своими просторами: и огромной гостиной свободно можно было принять человек тридцать, тут стояли телевизор, диван, кресла, сервант, сквозь стекла которого кокетливо поблескивал нарядный сервиз, а в верхнем отделении торжественно светились фужеры и рюмочки. В эту комнату выходили завешанные тяжелыми портьерами двери спальни, в которой, покрытые плюшевыми покрывалами, мягко горбились две массивные кровати. Была и третья комната, что-то вроде кабинета, но на нее, видимо, у устроителей уже духу не хватило, и обставили они ее как попало — какой-то канцелярский ампир. А в гостиной и спальне все было старомодно и добротно. Здесь чувствовалось умиротворение.
— А ты говорил «жадный».— Лихарев припомнил Михаилу разговор на лестнице.— Да эти хоромы по червонцу с носа за сутки стоят, не меньше.
— Ладно, не обижайся, просто как-то неловко, что ты сразу торговаться начал,— пошел на попятную Михаил.
— А было бы ловко, если бы они по сотне с нас под занавес слупили? — съязвил Алексей.
Кочетков стоял в носках на ворсистом ковре и впервые за двое суток дороги чувствовал себя легко и свободно — и даже не потому, что снял обувь, просто каждая клетка ощущала надежный уют. Ему было немного стыдно, что за эти два дня он много раз был неправ по отношению к Алексею.
— Если я скажу противное воле твоей, да пожрет меня геенна огненная,— склонился почтительно Михаил, но когда поднял голову, то увидел, что лицо Лихарева мгновенно стало серьезным.
— Ладно. Прикинем, что мы можем успеть сделать за сегодня. Полпятого, еще не поздно… Тьфу, черт, воскресенье же,— досадливо поморщился Лихарев.— Но на комбинате, конечно, какое-нибудь начальство сидит. Позвоним?
Михаила всегда поражала эта моментальная готовность Алексея к делу. Сколько раз они вместе гуляли допоздна, а на следующий день выяснялось, что Лихарев после всего еще мотался на какие-то ночные съемки или до утра колдовал над растворами, завешивая свою тесную кладовку-лабораторию мокрыми змейками пленки. Михаил так не мог: чтобы начать работать, ему необходимо было почувствовать себя в форме. Он должен был, как штангист на помосте, испереживаться, распалить себя, прочувствовать, что отступать уже поздно, и только тогда несмело сделать первый шаг. Дальше уже будет легче, потому что на миру надо идти до конца.
— Все великие дела надо начинать в понедельник, Лешенька,— начал соблазнить Михаил. Он кейфовал в мягком глубоком кресле, ноги а белых шерстяных носках, как флаг капитуляции, он водрузил на журнальный столик. Казалось, что и нет за плечами двух суток утомительного перелета.
Норильск не принимал из-за пурги, и их посадили в Амдерме. Кошмаром вспоминался забитый транзитниками аэропорт. Только благодаря пробиваемости Лихарева им не пришлось ночевать на полу вповалку с горемычными пассажирами. Алексей позвонил в редакцию местной газеты, и коллеги устроили им две койки в общежитии и вдобавок шикарный ужин. Да и вправду сказать: кто из северян упустит возможность узнать свежие столичные новости.
Пригласил их к себе репортер Леня Левкин, смешной человек с огромной копной черных курчавых волос, из-под которых, как две мышки, настороженно выглядывали маленькие глазки. Необыкновенно застенчивый и в то же время обезоруживающе откровенный, Леня взахлеб рассказывал гостям о Норильске, где живет его любимая девушка Марина и куда он мечтает перебраться. Смущаясь, Леня похвастался, что наконец эта возможность ему представилась. Из норильской газеты за профнепригодность увольняют сотрудника и Леню берут на освобождающееся место. И тут оказалось, что нерадивый норильчанин не кто иной, как знаменитый Георгий Золотарев, бывший однокурсник Кочеткова.
…На первом курсе они считались друзьями. Михаилу сейчас трудно было понять, ценил ли их дружбу Золотарев или ему просто было удобно иметь рядом преданного человека. Михаил же гордился тем, что везде они ходят вместе, что у них общие дела, близкие интересы. На их курсе училось мало ребят, поступивших сразу после школы, и Михаил, вчерашний десятиклассник, скованно чувствовал себя среди студентов, уже отслуживших в армии, поработавших и, как ему казалось, познавших жизнь.
Золотарев был старше Михаила на пять лет. В эти пять лет укладывались и армия, и два курса пятигорского института иностранных языков, и какие-то три или четыре места работы. В Георгии было то, чего так не хватало Михаилу. Он был смел, уверен в себе, скорее даже самоуверен. К трудностям относился с презрением и не терялся в самых сложных ситуациях. Но к пятому курсу дружба их незаметно угасла. Не потому, что поссорились, а потому, что прошло время и Кочетков повзрослел настолько, что перестал отличаться от соучеников. Он больше не нуждался в опекуне, а Золотарев, всегда стремившийся к независимости, только рад был освободиться от обузы.
— Сегодня вечер отдыха. Надо расслабиться перед броском,— сделал еще одну попытку отложить работу на завтра Михаил.
Лихарева слегка озадачила эта идея, но он подумал и решил, что в общем-то неприлично начинать долбить начальство в воскресный вечер. Пусть уж завтра, в тяжелый день, вместе с трудовой неделей на его замороченную голову свалятся в придачу два столичных корреспондента.
— Если отдыхать, то предлагаю в ресторане. Кочетков с сожалением оглядел комнату.
— Лешенька, разве смогут нам предоставить в общепите такие шикарные апартаменты? Давай пройдемся по городу, купим, что видит око, и засядем за трапезу. Недозволительно давать простаивать этим фарфорам и хрусталям.— Кочетков барским жестом обозначил предполагаемое роскошное вечерье,
В номер они вернулись нагруженные, как вьючные кони.
— Куда мы столько набрали? — недоуменно покачал головой Лихарев.
— Съедим. За десять-то дней! — успокоил его Кочетков.— Трудно удержаться, когда видишь столько вкуснятины, и потом здесь в основном твое пиво. Зря ты столько набрал. Сибирь не Прибалтика: нет традиций пивоварения.
— Не хай раньше времени. Пиво отличное. И вообще, если ты заметил, здесь издержки климата стараются компенсировать налаженным бытом. Нориль-чане дешевой романтики не признают. Где возможно, там должно быть удобно.
— «Воркута, Воркута — золотая планета, двенадцать месяцев зима, а остальное лето»,— вспомнил давно слышанную прибаутку Кочетков.— Завоешь, конечно, от холодины и темени кромешной.
— Зато потом долго солнце не заходит. Проснешься и не знаешь: то ли ночь, то ли день. Люди круглосуточно, как ошалелые, по улицам бродят. Магазины и рестораны забывают закрываться.— Лихарев мечтательно закатил глаза.— На душе у всех вечное лето.
— А в полярную ночь все сонные,— подхватил Михаил.— Забывают ходить на работу, и на душе у всех лютая зима.
— Ну и пусть. Зато точно знаешь, что она кончится и тебе будет хорошо. А то день, ночь, день ночь — тоска. Надеешься, что завтра все образуется, будет лучше, чем сегодня, а оказывается, так же или еще хуже.— Лихарев сказал это безразличным тоном, но по тому, что он отвел глаза и внимательно рассматривает пиво в своем фужере, Михаил понял, что у Алексея на душе нехорошо.
В гостиной, где они расположились в глубоких креслах, было тепло и уютно. Мягкий свет заливал празднично сервированный журнальный столик, который скорее походил на обеденный с подрезанными ножками, настолько он солидно выглядел. Лихарев и Кочетков сидели вполоборота к столу, безразлично посматривая на экран телевизора, закусывая и неторопливо потягивая янтарного цвета пиво.
— Как ты думаешь, Михаил, сколько лет Левкину? — задумчиво рассматривая сквозь бокал искаженные очертания комнаты, спросил Лихарев.
— Наверное, около тридцати.
— А наивный, как мальчишка. Мечты, терзания… Место в Норильске ждал два года. Ради чего? Как будто в Амдерме или в его родном Ленинграде девицу трудно найти.
— Ему Марину подавай,— благодушно напомнил Кочетков.
— Брось, все они одинаковые.
— Если одинаковые, то чего ж ты Зинаиду выбрал, а не Меланью какую-нибудь?
— Дурак был,— раздраженно ответил Алексей.
Это было сказано с такой болью, что Михаил растерялся и, торопливо поднявшись, подошел к телевизору и прибавил звук.
— Местная программа. Сейчас мы все городские новости узнаем,— увел он разговор от опасной темы.
…Лихарев редко унывал. Не то, что поводов для этого не было, а по складу характера. Правда, с другим характером такой семейный воз тащить — и браться было нечего.
Женился Алексей легко. Встретились в компании, месяц на свидания побегали и расписались. Друзья завидовали — не простую взял, на актрису учится. Лихареву и самому поначалу нравилось, что жена с такой модной профессией. Он еще и бравировал: «Зинаида у меня баба простая, деревенская». Это было чистой правдой. Приехала Зина в столицу из костромской деревни. Конечно, если бы она по лимиту на завод устроилась, то хвастать Лихарев бы не стал. Но раз уж ее в такой шикарный вуз приняли, то происхождение только подчеркивало ее исключительность.
Зинаида с крестьянской основательностью навалилась на учебу и первый год света белого не видела.
Только сдав вторую сессию на «отлично», Зинаида позволила себе перевести дух и оглядеться окрест. Первым, кого она увидела, был Лихарев. Цепкий, подвижный и в меру наглый, он сразу пробил брешь в ее деревенской заносчивости и увидел, что под этой броней прячется робкая, застенчивая девочка. Это открытие так умилило Алексея, что он потерял голову. Зинаида же обрадовалась, что наконец появился человек, перед которым не надо играть, с которым легко быть собою, и приняла эту легкость за любовь. К несчастью, они сразу стали жить у свекрови, и уже через месяц их отношения дошли до предела, за которым развод. Но тут Лихарев проявил волю и благоразумие и, сняв комнату, увез свою жену от маменьки. Еще через месяц Зинаида забеременела и как-то сразу, неожиданно для себя, по-другому, остро полюбила Лихарева и, отяжелевшая, сидя на лекциях, думала с нежностью о нем. Даже когда начался токсикоз, и ее тошнило по десять раз на дню, она ни разу, даже в мыслях, не попрекнула Алексея.
Лихарев сразу повзрослел, и если его приятели-третьекурсники еще пробовали себя в различных жанрах журналистики и предавались студенческим развлечениям, то он бегал по Москве, мотался по случайно подвернувшимся командировкам и снимал, снимал, снимал…
Жизнь потихоньку налаживалась, и уже начали присматривать подходящий по цене и расположению кооператив.
Вдруг неожиданно умер отец Зины. И не болел особенно, а так, прихварывал, как все в его возрасте. Во сне остановилось сердце, измотанное еще в молодости за четыре года войны.
После похорон Лихаревы остались у тещи до девятого дня, потом приезжали на сороковины и задержались на неделю, потому что теща, выпроводив гостей, тут же слегла, и врачи высказали опасение, что может и не подняться. Но ей стало получше, и, оставив Глафиру Ильиничну на дальнюю родственницу, они уехали: у свекрови кончались отгулы, и сидеть с Костиком она больше не могла. После этого Алексей раз пять приезжал в деревню, завозил продукты да помогал по хозяйству. Он понимал, что долго так не выдержит, разрываясь на два дома: запустил работу, погряз в долгах и университетских хвостах, начались скандалы с Зинаидой. Она обвиняла Лихарева в неумении жить, потом плакала и извинялась. Ей жалко было больную мать, но она чувствовала, что рушится мечта стать актрисой, и это приводило ее в отчаяние.
Наконец Лихарев решился. Видя, что теща уже может передвигаться, он перевез ее в Москву. Застонали было хозяева квартиры, испугавшись, что число постояльцев может бесконтрольно разрастись, но добавленный к плате червонец уладил дело. В теплой московской квартире здоровье Глафиры Ильиничны постепенно поправилось, она уже могла приготовить обед и последить за Костиком. К тому же у нее были кое-какие сбережения, и, не желая становиться обузой, она помогала молодым деньгами. Жили тесно, вчетвером в одной комнате, но зато у Лихарева появилась масса времени для работы, а Зинаида теперь дневала и ночевала в институте и опять выбилась в отличницы.
На пятом курсе Лихарев вступил в Союз журналистов и сразу пробился в жилищный кооператив. Отношения Глафиры Ильиничны складывались с ним даже лучше, чем с родной дочерью, и уже было договорено, что они будут жить вместе. Дом в деревне продали, выплатили вступительный взнос за трехкомнатную квартиру, и к окончанию института Лихарев
подошел вполне самостоятельным человеком. Иногда он шутя называл себя «кормильцем».
Как бывает после всяких мытарств, началась полоса везения. Лихарева взяли в солидный иллюстрированный журнал. И он, чтобы оправдать доверие, впрягся в работу, как вол. Зинаиду заметили в каких-то студенческих спектаклях и пригласили сняться в кино. Она сыграла маленькую, без слов, роль, а потом ей предложили еще одну, и ее фамилия даже появилась в титрах.
Все складывалось хорошо, но тут у Зинаиды появились какие-то новые друзья, она стала поздно приходить домой. Лихарев часто мотался по командировкам и не замечал, что дома творится неладное, до тех пор, пока теща, сгорая от стыда, не попросила его: «Приструни Зинаиду, а то до беды недалеко». Лихарева как ошпарило тогда, но Зинаида поклялась, что никого у нее нет. Это была правда, и Алексей поверил жене, но решил реже ездить в командировки.
Погруженные в безделье домашние вечера стали мучением. Начались ссоры.
Лихарев, не зная, что предпринять, с помощью тещи уговорил Зинаиду родить второго ребенка. Ожидание и появление Иринки на время вернуло прежние добрые отношения. Дипломный спектакль Зинаида играла на девятом месяце. Руководитель топал ногами и кричал: «Чур меня! За пятьдесят лет моего служения Мельпомене я не слышал, чтобы рожали на сцене. Мы за реализм в искусстве, но не до такой же степени». На что Зинаида твердо ответила: «Если вы меня не допустите к диплому, я рожу перед дверью вашей квартиры». Ей дали роль старушки, которая весь спектакль сидела в кресле, укутанная пледами, и брюзжала на молодежь.
После рождения ребенка Зинаида и двух месяцев не просидела дома. Ей предложили место в театре с богатыми традициями и зачастую полупустующим залом. Протежировал Зинаиде ее руководитель, который в театре был ведущим и старейшим актером.
Теща чуть ли ни на коленях упрашивала дочь докормить ребенка хотя бы до полугода, но Зинаида была непреклонна: «Такого предложения может не быть за всю жизнь». Иринке пришлось довольствоваться искусственными смесями, она росла слабенькой.
Зинаида заболела своей новой работой, она готова была ночевать в театре. Репетировала дома, в метро, на улице, учила десятками монологи своих любимых героинь и мечтала о том дне, когда к ней подойдет режиссер и скажет: «А не попробовать ли вам, милочка…» Ну что б такое попробовать? Пусть не сразу Джульетту, но дочь Городничего вполне могли бы предложить.
Миновал год, а дальше «Кушать подано» Зинаида не продвинулась. Ей казалось, что уже пора, но час ее все не приходил. Она стала раздражительной. Кричала на домашних. Лихарев терпел, улаживал скандалы, как мог, а потом зачастил в командировки.
Положение Зинаиды в театре не было исключительным. Таких же нетерпеливых молодых актеров было несколько. Непризнанные, они держались особняком и между собой поругивали шестидесятилетних Дездемон и семидесятилетних Чацких. Маясь от безделья, часто собирались после спектакля. Несколько раз оставалась и Зинаида. Но постыдное пе-ремывание костей удачливым скоро ей надоело. Она уже начала было закисать, но тут а их труппу поступил энергичный сорокалетний красавец Гилевский. Главных ролей ему, конечно, было не видать, но в середине программки его имя заняло прочное место.
Сцена театра не была основным местом применения его талантов. Гилевский любил жить широко. Он быстро и тихо сколотил из молодых и непризнанных бригаду и начал организовывать концерты, поначалу под маркой шефских. Постепенно бригада вошла во вкус, тем более что за концерты хорошо платили, и география микрогастролей расширилась. Они начали выезжать в близлежащие от Москвы города. Зинаида долго отказывалась от «левых» выступлений, но Гилевский был настойчив в yговорax, и она согласилась больше из любопытства, нежели ради денег.
Первая ее «халтура», как называли эти концерты актеры, пришлась на родные места. Большой заводской клуб в центре Костромы был обклеен афишами. «У нас в гостях Московский театр»… Зал был полон.
Концерт напоминал сборную солянку. Играли сцены из спектаклей, танцевали, декламировали стихи. Зинаида пела русские народные песни. Принимали ик хорошо, много аплодировали. Но когда все закончилось, у Зинаиды на душе долго оставался неприятный осадок, будто она совершила что-то постыдное. Потом привыкла.
Возвращались с этих гастролей, как правило, ночью на каком-нибудь фабричном автобусе. В дороге было весело: пели, смеялись, и в Москве теплой компании уже было трудно расстаться, они шли к кому-нибудь, чаще к Гилевскому, пить кофе. Расходились под утро, вымотанные бессонницей, пропахшие дымом сигарет. А к одиннадцати надо быть в театре, и на репетиции их покачивало от усталости, но они бравировали своей профессиональной выносливостью, и лишь круги под глазами выдавали их.
Лихарев и Глафира Ильинична требовали, чтобы Зинаида прекратила эти подозрительные выступления, но она отвечала, что актер не должен гнушаться никакой работы, a tee положении это единственная возможность сохранить талант.
Как-то, измотанная посла очередной поездки, Зинаида задремала в кресле под заунывную балладу и проснулась оттого, что ее куда-то несут. Оказалось, что гости уже разошлись, а полупьяный хозяин решил уложить ее в постель, Дальше все было просто, и эта незначительность случившегося показалась ей обидной — ведь она впервые изменила мужу. Только через день, когда выветрился угар ночи, Зинаида почувствовала омерзение к себе. Она, как прокаженная, боялась подойти к детям, потом вдруг какая-то плотина прорывалась в ней, и она накидывалась на Костю и Иринку и иступленно целовала их до тех пор, пока они не пугались и не начинали плакать. Тогда она убегала в спальню, запиралась и долго лежала, уставившись в одну точку на потолке. Странно, но она не испытывала неприязни к Гилевскому и не чувствовала вины перед мужем, ей было горько оттого, что она переступила ту черту, которая оберегала ее семью и за которой такие большие понятия «мать» и «жена» заменялись безразличным «женщина».
Две недели, кроме дома и театра, ока нигде не была. Но потом ее снова начало тянуть на «халтуру», и она поняла, что привлекают ее не столько выступления, сколько сопутствующие им вечеринки, возможность показать себя, блеснуть талантом перед коллегами, и неважно, что впустую. Веселость той жизни особенно остро чувствовалась в размеренной скуке дома. Но в то же время она боялась этих поездок, понимая, что случайная связь с Гилевским будет иметь продолжение и она потеряет семью. Чтобы удержать себя, Зинаида все рассказала мужу.
Первым желанием Лихарева было избить жену и вышвырнуть вон.
Чтобы не наделать глупостей, он выбежал из квартиры и всю ночь бродил по Москве. Что только не приходило ему в голову: и ее выгнать, и самому уйти, и набить морду Гилевскому, но в неразрывный узел были заплетены и они сами, и дети, и Глафира Ильинична, и даже квартира. Так ничего не решив, почерневший, не чувствуя ног, он вернулся в затаившийся, как перед ненастьем, дом. Ему не хотелось никого видеть. Он постоял перед дверью в детскую, несколько минут слушая милую, доверчивую тишину. В спальне тишина была другая — чужая и тревожная, туда он войти не смог.
Лихарев прошел в темную комнатку — фотолабораторию, которую он переделал из просторной кладовой,- не раздеваясь, прилег на топчан и заснул тяжелым, без сновидений сном.
Неделю Лихарев с женой почти не встречался. Жили в одной квартире, а находились друг от друга далеко, как б разных городах. Он уходил, когда Зинаида спала, а она возвращалась с вечерних спектаклей и только по ботинкам узнавала, что он дома. За дверью кладовой было тихо — не поймешь, то ли спит, то ли печатает свои карточки. Дверь он подгонял сам, и даже крошечной щелочки не было.
Поначалу Зинаида думала, что их помирят дети. Когда Костя звал: «Папа, мама, идите сюда»,— она замирала и думала, что вот сейчас произойдет этот тяжелый, но такой нужный разговор. Лихарев выглядывал из своей норы, минуту стоял, равнодушно уставившись на веселящихся детей, и, видя, что он не нужен, уходил.
Глафира Ильинична, когда в доме были молодые, постоянно возилась на кухне, она все знала, и ей было стыдно и страшно за свою новую семью. Как старшая она чувствовала, что должна что-то посоветовать, но, кроме простого деревенского средства — поучить жену кулаком,— ничего придумать не могла. Она понимала, что от этого зятю легче не станет.
Жизнь в доме становилась невыносимой, казалось, что-то вот-вот лопнет в этой напряженной тишине. Но ничего не происходило, и ожидание угнетало, выматывало.
В конце недели Лихарев уехал в командировку. Когда за ним закрылась дверь, то в квартире все вздохнули с облегчением. Выло такое ощущение, что беду, пусть на время, вынесли из дома.
Программа телевидения кончилась, Кочетков и Лихарев легли. Но сон не шел. Кочетков слышал, как ворочается Алексей, сам измял все бока, передумал, о чем только мог, и наконец не выдержал:
— Не спишь?
— Нет,— хмуро ответил Лихарев.
Они зажгли свет. На часах было два ночи.
— По Москве десять — какой тут сон,— буркнул Алексей и, прошлепав босыми ногами по паркету, включил электрический самовар.
Молча пили чай. Лихареву хотелось рассказать Михаилу о своей беде, но он никак на решался начать, хотя выговориться было необходимо, он уже не мог держать эту тяжесть в себе. Медленно тянулись минуты, и все труднее было нарушить тишину.
— Все,—с тяжелым вздохом поднялся Лихарев.— Надо спать. До подъема осталось четыре часа. В девять должны быть в горкоме.
Весь следующий день они рыскали по городу. Вот она, прелесть командировки без цели. Свободная охота. Пиши, о чем хочешь, но если вернешься без материала — пеняй на себя. Положение, как у голодного волка: если за три дня ничего не поймаешь — протянешь ноги.
Кочетков и Лихарев расстались еще утром. Как сказал, прощаясь, Алексей: «Шансы найти тему возросли вдвое». Договорились встретиться в обед, но в середине дня Лихарев еще бродил по шахте и прикидывал, как бы осветить эту преисподнюю, чтобы она выглядела на снимке эффектно, а Кочетков, намерзшийся за полдня на ветру, отогревался в рабочей столовой горячими щами. Вокруг сидели в толстенных одеждах крепкие парни лучшей на строительстве бригады, ели со смаком и со смаком рассказывали о своей работе. На подоконниках и на полу лежали каски с подшлемниками, засаленные меховые треухи и шарфы, которыми закутывали от ветра лица; огромные, как валенки для подростка, рукавицы. Эта брошенная одежда напоминала в жарком помещении о лютой стуже за окнами.
Утром, когда Кочетков целый час добирался на попутках до этого строительного участка, его поразила неуемность человеческой натуры. За окнами «ЗИЛов» и «МАЗов» проплывали гигантские корпуса действующих и еще строящихся цехов комбината. Людей видно не было, только снующие машины, дым труб и прожектора строек на безмолвной замерзшей равнине. В этом краю трудно приходится человеку. Добраться сюда, удовлетворить любопытство и вернуться на теплую плодородную землю — вот, казалось бы, разумный поступок. Но люди возвели здесь заводы, основали город и живут не временно, как старатели-бродяги, а по-хозяйски, загадывая надолго.
«Не драматизируй, это в тебе говорит журналист,— остерегал себя Михаил,— можно жить в Заполярье. Только человеку здесь необходима раковина, которая хранила бы тепло. Раковина — вот этот «ЗИЛ», раковина — цех справа, который светится, как океанский лайнер, и изрыгает дымы, там, наверное, плавят металл и люди изнемогают от жары. Обязательно уютная раковина-квартира и безупречно работающий городской транспорт, чтобы раковину-автобус пассажир ждал не больше минуты».
В прорабской о приходе Михаила уже знали. Начальник участка, с которым на полчаса удалось встретиться Кочеткову в Норильске, посоветовал ему отправиться сюда и даже гостеприимно предлагал машину, но Михаил отказался, по опыту зная, что, бывает, в дорого от посторонних людей узнаешь больше, чем от самих старожилов. Четыре раза пересаживался с машины на машину Кочетков, благо шоферы Севера не избалованы левыми заработками и за подвоз денег не брали. Начальник участка подивился причуде корреспондента, но прораба на объекте не забыл предупредить, чтобы тот ждал гостя.
— Я уж решил, что вы заблудились,— проговорил сорокалетний, невысокого роста мужчина, поднимаясь из-за стола навстречу Кочеткову. Одет он был в меховую безрукавку и ватные брюки, заправленные в валенки. Перед тем как протянуть для знакомства руку, он сунул за ухо карандаш, которым размечал что-то в графике.— Балоненко Евгений.—Мужчина склонил набок голову и нерешительно добавил: — Петрович,— показывая этим, что по отчеству его называть не обязательно.
Михаил из-под вороха одежды извлек свое удостоверение.
— Да к чему это, по вас и так видно, что из столицы,— отмахнулся прораб, но, заинтересованный парадным видом красных корочек, все же покрутил их в руках и, удовлетворенный, вернул владельцу.
— Вот приехал посмотреть, как вы тут работаете. Если понравится, напишу о ваших людях.
Эта нехитрая уловка обычно действовала безотказно. «Как это не понравится,— думал хозяин,— все сделаем, чтобы понравилось». Но сейчас подстегнуть местный патриотизм почему-то не удалось.
— Какая уж тут работа.— Балоненко кисло поморщился и, сдвинув на угол стола графики, указал на стул.— Садитесь, сейчас чайку попьем.
В центре вагончика раскаленным спрутом светился «козел». Сколько Михаил ни видел за свою недолгую корреспондентскую службу прорабских, везде присутствовал этот примитивный, но мощный отопительный агрегат и шезде с ним безрезультатно боролись пожарники и инженеры по технике безопасности. Однако здесь, за Полярным кругом, за жиденькими стенками вагончика, «козел» стоял полноправным хозяином, как русская печь в избе.
— Немного неудачно вы приехали. Открытые работы сегодня запрещено производить,— вяло проговорил прораб, доставая из шкафчика заварку и сахар.
— Как это запрещено? Мне же в конторе сказали, что у вас монтаж перекрытия начался,— оторопел от неожиданности Кочетков.
Выходит, он тащился сюда на перекладных, чтобы чаи гонять С этим выцветшим Евгением.
— С самого утра монтаж своим чередом шел, а вот пока вы добирались, пурга поднялась. Актированный день, ничего не попишешь — всего три балла выше нормы, а заставить работать уже не имеешь права.
Затрепыхалась, точно выброшенная на берег рыбешка, тяжелая крышка громадного чайника. Дно его раскалилось. Пар с шипением вырывался из носика и из-под крышки, и, даже когда Балоненко снял с плитки чайник, тот о его руках продолжал плеваться кипятком.
— Сейчас ведь уговорами не возьмешь. Ты ему про совесть, а он тебе про наряды, премии.
Прораб высыпал в ведро из грязного, в рыжих подтеках чайничка спитую заварку, ошпарил нутро кипятком и сыпанул туда полпачки индийского.
— Покажите мне хоть, что вы тут строите,— огорченно попросил Кочетков,— а то тащился в такую даль и все без толку.
— Успеете еще намерзнуться. На таком ветру не то что работа, даже экскурсия в радость не будет. Ох, не вовремя вы приехали, у нас сейчас самая нервотрепка.
Михаил из своей практики не мог припомнить случая, когда он приезжал вовремя, и поэтому, чтобы успокоить Балоненко, сказал:
— Да разве можно все предугадать на строительстве — это же не завод.— На заводе он обычно говорил обратное, и люди, не вслушиваясь, соглашались, им важна была не правота, а сочувствие.
— Вы давно на Севере? — неожиданно спросил Балоненко и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вот вы думаете, тут романтика, люди себя испытать рвутся. А я вам проще скажу — за длинным рублем рвутся.
Михаил поднял голову. Он был удивлен не столько откровенностью, сколько злым азартом, с которым это было сказано.
— Да-да, за длинным рублем, и, заметьте, я в этом не вижу ничего плохого. Но совесть-то должна же быть!
Михаил чувствовал, что это продолжение какого-то спора, и не стал перебивать неожиданно разгорячившегося прораба.
— Знаете, как тяжело работать с настоящими северянами? Каждый — личность, каждый — кремень………….